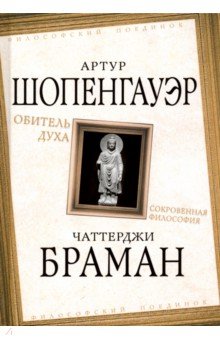(Schopenhauer) — знаменитый немецкий философ; род. 22 февраля 1788 г., умер 21 сентября 1860 г. Его отец был довольно богатый данцигский купец. Желая дать сыну хорошее образование и познакомить его с жизнью, но в то же время отнюдь не мечтая сделать из сына впоследствии ученого, он взял с собой во Францию девятилетнего мальчика, и, прожив два года в Гавре, Артур отлично усвоил французский язык. Затем ребенок провел 4 года в Гамбурге, где в частном коммерческом училище продолжал свое образование. Страсть сына к науке тревожила отца, который надеялся увидеть в сыне преемника на коммерческом поприще; поэтому на просьбы сына отдать его в гимназию отец прибегнул к хитрости. Он предложил сыну или отказаться от ученой карьеры и тотчас же отправиться с родителями на несколько лет в путешествие, или сделаться гимназистом, лишившись возможности принимать участие в столь любимых им путешествиях. Артур выбрал первое, и в течение двух лет (с 15 до 17 лет) он объехал Германию, Австрию, Швейцарию, Францию и Англию. Свои впечатления Артур заносил в дневник, который сохранился и представляет большой интерес, уже заключая в себе проявления пессимистического взгляда на жизнь — ее темные стороны особенно привлекают его внимание: в Тулоне он отмечает ужас существования галерных рабов, в Лионе веселый вид города по контрасту напоминает ему ужасы революции, которые, казалось бы, должны были быть у всех на памяти. "Непонятно, — замечает он по этому последнему поводу, — как сила времени может стирать самые живые и самые ужасные впечатления". Эта антипатия к всеразрушающему времени (весьма характерная для будущего сторонника учения о "трансцендентальной идеальности времени") нашла себе выражение тогда же еще в том, что он перевел стихотворение Мильтона, в котором высказывается желание бежать от времени. Вернувшись из путешествия, Артур поступил (в начале 1805 г.) в учение к одному крупному коммерсанту. Через несколько месяцев умер его отец. Это был широко образованный человек, у которого энергичный характер представлял выдающуюся черту, переданную сыну в наследство, но вместе с этой чертой сын унаследовал от него и некоторые психические ненормальности (они были многочисленны в роду Флориса Шопенгауэра — сумасшедшая бабушка, два душевнобольных дяди), которые были не чужды отцу: на него находили болезненные припадки, и в одном из них он и погиб. Кроме наклонности к меланхолии, Артур унаследовал от отца предрасположение к бредовым идеям; так, например, по временам (с раннего детства) его охватывал по разным поводам совершенно бессмысленный страх и крайнее недоверие к людям. То он бежит из Неаполя из страха перед оспой; то покидает Верону из опасения, что ему подсунули отравленный нюхательный табак; то он спит с оружием в руках и прячет в потайные закоулки ценные вещи из страха перед грабителями.
После смерти отца, уступая горьким жалобам сына на непривлекательность коммерческой деятельности, мать разрешила ему посвятить себя науке, и он ревностно принялся за изучение древних языков, переехав к матери в Веймар, куда она переселилась вскоре после смерти мужа. Иоганна Ш. (урожденная Трозинер) была веселая, жизнерадостная, но неглубокая натура: ее увлекала внешняя эстетическая оболочка жизни, силы чувства и серьезного отношения к жизни у ней никогда не было. Тем не менее ей нельзя отказать в живом и наблюдательном уме и довольно значительном литературном даровании; благодаря этим последним сторонам ее личности, ей удалось сблизиться с рядом выдающихся личностей из литературного мира. Ее салон сделался местом сборища известных писателей (Виланд, фон Эйнзидель, Захария Вернер, Фернов, оказавший сильное влияние на ее развитие). Среди них, конечно, самым почетным и одним из наиболее близких был Гёте и также его жена (Христиана Вульпиус). Эта блестящая роль талантливой писательницы, сосредоточивавшей в своем салоне цвет тогдашней литературы, очень льстила самолюбию Иоганны Ш. и, благодаря значительным средствам, оставленным мужем, она вела широкую жизнь. Когда сын переселился в Веймар, между ним и матерью не произошло никакого сближения; напротив, их характеры были слишком различны. Сыну не нравилось легкомыслие и тщеславие, а также интимная близость матери с Фридрихом Герстенбергом, мать возмущала в сыне его заносчивость, дух противоречия, прямота, переходящей часто в грубость, и тяготилась она также вечно меланхолическим настроением сына. Взаимная холодность отношений впоследствии (в 1814 г.) привела к полному разрыву между сыном и матерью, и хотя последняя после того прожила еще 24 года, они никогда больше не виделись; в конце ее жизни, впрочем, между ней и Артуром возобновилась дружеская переписка. В 1809 г. Артур имматрикулируется в геттингенском университете студентом медицины, чтобы основательно изучить естественные науки. После усиленных занятий этими науками Ш. приступает к изучению философии. С психологией и логикой он впервые познакомился на лекциях Готтлоба Эрнста Шульце ("Энезидемус"), который посоветовал ему прежде других философов тщательно проштудировать Платона и Канта, а позднее уже приняться за Аристотеля и Спинозу. С осени 1811 г. до осени 1813 г. Ш. проработал в Берлине, где продолжал одновременно работать по естествознанию и философии. Лекции Фихте и Шлейермахера мало удовлетворили его; у первого он слушал о "фактах сознания", у второго — историю средневековой философии; от первого его оттолкнули оптимизм и не в меру дискурсивная форма изложения, от второго — мысль о примиримости философии и религии. После упорной работы, изучив Платона и Канта, перечитав Гердера ("Метакритика"), Маймона, Бека, Шульце, Фриза и многих других, он представил в Йене факультету диссертацию "О четверичном корне закона достаточного основания" и успешно защитил ее. Сочинение это, заключающее в себе теорию знания Ш., представляет уже вполне зрелое произведение и важные "Prolegomena" ко всей его системе. Как докторская диссертация, оно было встречено сочувственными рецензиями, но литературного успеха в большой публике, на который рассчитывал Ш., книги не имели, что глубоко огорчило его. В следующем году задумана работа "О зрении и цветах", написанная под сильным влиянием Гёте и имеющая второстепенное значение. Последующие 4 года Ш. посвящает обдумыванию и созданию своего главного труда: "Мир как воля и представление".
В 1814 г. Ш. окончательно порывает с матерью и сестрой Аделью, навсегда покидает Веймар и поселяется в Дрездене. По окончании своего главного труда (1818) он уезжает в Италию, где поддается очарованию эстетической стороны жизни и дает волю своей чувственности, которая рано пробудилась в нем в самой бурной форме (юношеское стихотворение "O Wohllust! O Hölle! O Sünde! O Liebe!"). В Венеции он чуть не познакомился с Байроном, но восхищение его возлюбленной Терезины наружностью "poeta inglese" возбудило в нем такую ревность, что это знакомство не состоялось. Вскоре в Италии Ш. получил известие о том, что данцигский торговый дом, которому мать его доверила все состояние дочери, остаток своего и треть состояния Артура, прекратил платежи. Торговый дом предлагал кредиторам сделку (уплата 30 % ), с тем чтобы все они приняли в ней участие. Ш. предпочел выжидать удобного момента, не протестуя против сделки, но и не принимая в ней участия. В решительную минуту философ предъявил свои три векселя ко взысканию и получил сполна всю сумму, грозя принудить к платежу "посредством замечательной аргументации, введенной великим Кантом в философию для доказательства нравственной свободы человека, а именно посредством заключения от "должен" к "могу". Это значит: не заплатите мне добровольно, так вексель будет опротестован. Вы видите, что отлично можно быть философом, не будучи в то же время дураком". В этой истории подозрительность Ш. к сестре, которая склоняла его принять участие в сделке (Артур думал, что сестрой, которая горячо любила его, руководили корыстные основания), привела к разрыву и с этой благородной девушкой.
Через год после напечатания главного труда Ш. выступает доцентом в берлинском университете. Он читал свой курс: "учение о сущности мира и о человеческом духе" пять раз в неделю и закончил его до окончания семестра. Не недостаток преподавательского дарования, не приватный характер курса, но всеобщее увлечение гегелевской философией, вероятно, было причиной того, что лекции Ш. не обратили на себя внимания студентов, и хотя он в следующие семестры еще несколько раз вывешивал объявления о своем курсе "об основании философии или о теории познания, включая логику", но он никогда не читал этого курса. Вместе с неуспехом преподавательской деятельности тяжелым ударом для Ш. был неуспех его главного произведения "Мир как воля и представление". За пять лет после его выхода в свет о нем появились три рецензии Гербарта, Бенеке и Ретце; все три заключали в себе, наряду с возражениями, и похвалы, но прошли незамеченными публикой, как и разобранная в них книга. На Бенеке Ш. обрушился бранной статьей, несправедливо и крайне грубо упрекая его в злостном искажении своих мыслей. С этой поры в Ш. ненависть к профессорам философии принимает характер патологический. В его воображении складывается дикая легенда о сознательной стачке, о заговоре всех цеховых ученых, согласившихся единодушно замалчивать заслуги его, непризнанного гения. Единственным утешением для оскорбленного самолюбия Ш. было сочувственное отношение к нему Гёте и особенно Ж. П. Рихтера, который писал, что мировоззрение Ш. "обнаруживает часто безутешную и безнадежную глубину, подобно меланхолическому озеру в Норвегии, окруженному со всех сторон мрачными стенами из крутых скал, в которых никогда не видно солнца, а видно лишь в глубине звездное небо, никогда над этим озером не пролетали птицы, не пробежит и волна". Между тем книга Ш., что называется, "села", часть пошла на макулатуру, остальное оставалось непроданным. Этот неуспех тяжко отразился на мрачном и без того настроении философа, но он продолжал работать. Превосходное знание языков дало ему возможность перевести одну испанскую книгу — сборник правил светской и житейской мудрости Балтазара Грациана — на немецкий, а свою работу "о зрении и цветах" — на латинский.
В ночь под 1-е января 1831 года Ш. увидел "вещий" сон: ему привиделся его умерший отец и один товарищ детства — это показалось ему предостережением перед опасностью. В августе, при наступлении холеры в Берлине, он перебрался во Франкфурт-на-Майне, где и прожил всю свою остальную жизнь. Он впервые обзавелся здесь своим домом, собственной обстановкой; раньше он жил в меблированных комнатах. Его труды тридцатых годов, за исключением одного, так же мало были оценены, как и предыдущие работы ("О воде в природе", 1836 г., и два сочинения, написанные на конкурс — одно по предложению Норвежского королевского общества в Дронтгейме: "О свободе воли", увенчанное премией, другое: "Об основах морали", по предложению датской академии наук, не получившее одобрения). Сочинения Штраусса и Бруно Бауэра по истории религии, Фейербаха по философии религии отвлекли внимание публики от Ш. — час его славы еще не пробил. В 40-х годах у Ш. появляются приверженцы. Сначала несколько юристов заинтересовались его произведениями (Беккер, фон Досс и др.) и начали его пропагандировать. Затем он нашел настоящего "апостола и фамулуса" в лице Фрауэнштедта (см.). Этот ловкий, услужливый, сведущий и трудолюбивый поклонник оказал немалую услугу Ш. ревностной популяризацией трудов своего патрона. Ш. обращался с ним грубо и деспотически, требуя, чтобы Фрауэнштедт постоянно собирал о нем газетные и журнальные отзывы и упиваясь самыми ничтожными рецензиями, лишь бы они были хвалебные. В конце концов даже усердный фамулус потерял терпение, и друзья разошлись навсегда, что, впрочем, не помешало Ш. вспомнить о нем при составлении завещания, щедро вознаградив его за труды. В 44-м году Ш. выпустил в свет дополнительный том к своему главному произведению и принялся за последний труд "Парерги и Паралипомены" — два тома статей, дополняющих и разъясняющих его систему, которые появились в 1851 г. Революции 1848 и 1849 гг. вызвали в Ш. только негодование и отвращение. Март 1849 г. крайне встревожил его, и лишь вступление в город в июне эрцгерцога Иоганна успокоило его. Шум восстания и боя 18-го сентября достиг его квартиры; во время перестрелки между войсками и народом на Фааргассе он услышал рев голосов у своей комнаты. "Я, думая, что это — самодержавная сволочь, задвигаю дверь железной палкой; раздаются сильные удары и, наконец, тоненький голос моей горничной: "это только несколько австрийцев!" Тотчас отворяю дверь этим достойным друзьям: 20 богемцев в голубых панталонах врываются, чтобы стрелять из моего окна по самодержцам, но вскоре соображают, что последнее будет удобнее из соседнего дома". Реакционный фанатизм составляет характерную черту Ш., которой он напоминает своего переводчика Фета. Преследование свободомыслящих писателей в 50-х годах (Бюхнер, Малешотт) так же, как и раньше преследования Бенеке, вызывали в нем ликование — представители "клистирной спринцологии" должны были быть наказаны правительством: "эти негодяи отравляют голову и сердце, невежественны, как лакеи, глупы и дрянны". Последняя книга Ш. подошла к настроению начала 50-х годов. Особенный успех имели статьи об университетах и о "духовидении", которое как раз в это время входило в моду. С этого времени и до смерти Ш. его слава идет все crescendo — его переводят, о нем читают публичные лекции, начинают излагать его учение в университетских курсах. У него являются новые приверженцы Ашер и Линднер, во Франкфурте предпринимаются к нему паломничества как к жрецу новой религии, знаменитые писатели посещают его, ему целуют руки, пишут восторженные письма и т. д. В "Senilia" он говорит: "Вечерняя заря моей жизни будет утренней зарей моей славы, и я говорю словами Шекспира: "доброго утра, господа, тушите факелы, хищный набег волков окончился, взгляните на кроткий день. Он предшествует колеснице Феба и испещряет еще серый восток темными облаками"".
Генезис системы. Приступая к изучению философской системы Ш., необходимо принять во внимание те условия, которые наложили своеобразный отпечаток на ход его мыслей. Главными особенностями этой системы являются пессимизм, идеализм, эстетический мистицизм и этика сострадания, аскезы, сплавленные в монистический волюнтаризм.
I) Пессимизм. Много споров среди комментаторов Ш. вызывало несоответствие между безвыходным пессимизмом и проповедью аскезы и сострадания в теории философа и удивительной жадностью к наслаждениям жизни, утонченным эпикуреизмом, тем умением ловко устраивать дела, которое бросается в глаза при знакомстве с его биографией. Одни, как Фрауэнштедт, усматривают в личности философа истинный трагизм, другие, как Куно Фишер, полагают, что Ш. "рассматривал трагедию мирового несчастья в бинокль из весьма удобного кресла, а затем уходил домой с сильным впечатлением, но в то же время вполне удовлетворенный". Думается, что эти оба взгляда не исключают друг друга. Нам кажется, что самой основной причиной пессимизма Шопенгауэра является не болезненная меланхолия, не вешние удары судьбы, а врожденная бедность альтруистических чувств. Характерно, что Толстой, увлекаясь системой Ш., усваивает ее, но везде на место "воли" подставляет в качестве метафизической основы мирового бытия "любовь". Достоевский уподобляет душевные муки человека, не воспользовавшегося в земной жизни блаженством "деятельной любви", адскому огню. Не невозможно, что органический дефект альтруизма был для Ш. источником его пессимизма. То, что он жадно хватался за внешние блага жизни, проповедуя отречение от мира, представляет противоречие, психологически вполне понятное: он не мог найти выхода из своего пессимизма в деятельной любви и в сорадовании и потому цеплялся за то, что было ему доступно: научное творчество, эстетическое созерцание, чувственные удовольствия. Все это не мешало, быть может, Ш. сознавать счастье и блаженство, проистекающие от любви, и чувствовать себя неспособным к ней. Мучение Ш., быть может, было мучением "дьявола, который не знает любви", как выражается св. Тереза. Отсюда же, как мы увидим ниже, понятно, почему он пришел именно к этике сострадания.
II) Пессимизм Ш. относится к его идеализму, как причина к следствию. Мы склонны считать реальным то, что ценно для нас и, наоборот, что не имеет для нас никакой положительной цены, но является источником величайших страданий (а таков чувственный мир, по Ш.), то мы желали бы считать иллюзией, не настоящей, но лишь кажущейся действительностью. Если Ш., как пессимист, не остался чужд влияния индийской философии, а как идеалист — влияния "божественного Платона и изумительного Канта", то эти влияния были лишь воздействиями на подготовленную почву. Это явствует из вышеуказанных юношеских размышлений Ш. о всеразрушающем характере времени. Учение об идеальности времени, встречаемое у средневековых мистиков, есть результат, с одной стороны, того дуализма средств и цели, которым характеризуется всякий временной процесс: нас отделяет от вечного блаженства длинный, тяжелый путь личного и исторического развития; с другой стороны, во времени все великое и значительное бренно и преходяще. "Все растворяется в потоке времени, — пишет 18-летний Ш. матери. — Минуты, бесчисленные атомы мелочных моментов, на которые распадается всякое действие, это — черви, пожирающие и разрушающие все великое и смелое. Чудовище — повседневность унижает все, что стремится подняться выше". Учение об идеальности времени тесно связано с учением об идеальности всего временного, всего мира. Поэтому всего естественнее предположить такую цепь мотивов в творчестве Ш.: дефект альтруистических чувств и врожденная меланхолия — пессимизм — мысль об идеальности временного — догматический идеализм. Что Ш. должен был придти именно к самому радикальному догматическому идеализму, отрицающему не только трансцендентную реальность материи, но и Бога, и духов, и т. п., это явствует из того, что в противном случае для его пессимизма был бы выход, но он не желал этого выхода. Поэтому критический идеализм не удовлетворяет его ни своей теоретической, ни практической сторонами. Из того, что реальность вещи в себе недоказуема и что допущение такой реальности приводит нас к противоречиям, вовсе еще не следует, чтобы вещи в себе не существовали, ибо нам неизвестно, распространяются ли наши законы мышления на вещи в себе. Мы встречаем у Канта двойственность по вопросу о реальности или нереальности вещи в себе именно потому, что он не принял в достаточной мере вышеприведенного соображения. Колебание между догматическим идеализмом и догматическим реализмом у Канта оставалось всю жизнь, и в этом отношении, как доказано целым рядом исследований (Магаффи и Файингер), нет существенной разницы между 1-м и 2-м изданием "Критики". Между тем Ш., жадно ищущий теоретического оправдания пессимизма, тяготел к догматическому истолкованию "Критики" и, не находя подтверждения этой точки зрения у Канта, начинает обвинять его в трусости, недобросовестности, искажении текста во 2-м издании в реалистическую сторону из страха перед цензурой и т. п.
III) Эстетический мистицизм. Если мир есть "арена, усеянная пылающими угольями", которую нам надлежит пройти, если правдивейшим его изображением служит Дантовский "Ад", то причиной этому служит, как мы увидим, то, что "воля к жизни" непрестанно порождает в нас неосуществимые желания; являясь активными участниками жизни, мы становимся мучениками; единственным оазисом в пустыне жизни служит эстетическое созерцание: оно анестезирует, притупляет на время гнетущие нас волевые импульсы, мы, погружаясь в него, как бы освобождаемся от ярма гнетущих нас страстей и прозреваем в сокровенную сущность явлений... "И в этом грез мировом дуновеньи, как дым, несусь я и таю невольно, и в этом прозреньи, и в этом забвеньи легко мне жить и дышать мне не больно" (Фет). Прозрение это интуитивное, иррациональное (сверхразумное), т. е. мистическое, но оно находит себе выражение и сообщается другим людям в форме артистической художественной концепции мира, которую дает гений. В этом смысле Ш., признавая ценность за научной доказательностью в сфере теории познания, в то же время видит в эстетической интуиции гения высшую форму философского творчества: "Философия — это художественное произведение из понятий. Философию так долго напрасно искали потому, что ее искали на дороге науки вместо того, чтобы искать ее на дороге искусства". Такое значение, придаваемое Ш. эстетической интуиции и творчеству гения, объясняется: во-первых, высоким художественным дарованием Ш. выражать мысли свои с художественной яркостью, наглядностью и изяществом, во-вторых, тем, что Ш. развивался в тот период и в той среде, когда царил "культ гения", и где искусству придавали значение ключа к тайнам метафизики. Гёте, романтики (Тик и Новалис) в этом отношении повлияли на Ш., а также Шеллинг, в философии последнего аристократическая "интеллектуальная интуиция" является привилегированным свойством гения, свойством, при помощи которого он постигает в художественном созерцании сокровенный смысл явлений. Влияние Шеллинга на Ш. подробно выяснено Гартманом (см. "Geschichte der Metaphysik", 1899, т. II). Не следует ни преувеличивать, ни преумалять роль эстетического иррационализма в системе Ш. Сам Ш. категорически заявляет, что он "держится в стороне от всякого иллюминизма" (например, по поводу мистика Баадера он говорит, что философия делится на теоретическую и практическую, философия же Баадера относится к разряду невыносимых). Но этому вполне верить, как мы увидим, нельзя. Сама "царская" беззаботность Ш. о наличии противоречий в его системе (например, сочетание крайнего идеализма, как мы увидим ниже, с крайним материализмом, навеянным изучением французской философии, например Кабаниса), характеристична для артистической натуры и для человека, не очень дорожащего в своей системе свободой от внутренних противоречий (Widerspruchlosigkeit), что мы нередко замечаем именно у мистиков.
IV) Что этика Ш. есть этика сострадания, а не этика долга, не этика счастья, не этика пользы, не эволюционная прогрессивная этика и т. п. — это, очевидно, опять-таки результат его пессимизма. Этика долга требует веры в смысл жизни. Этика счастья, хотя бы в форме этики эгоизма, бессмысленна, ибо самое счастье — иллюзия; оно сводится, как мы увидим, к простому отсутствию страдания; этика пользы и этика прогрессивная предполагает этику счастья, а так как счастье абсолютно недостижимо, то и эти формы морали не могут иметь места. Живя в эпоху политической реакции и не веря в политический и вообще социальный прогресс по разным основаниям (между прочим, потому, что время идеально, следовательно, исторический процесс = субъективная иллюзия), Ш. должен был остановиться на единственной форме этики — этике сострадания, ибо она сводится не к увеличению нереального блага в жизни людей, а к обоюдному ослаблению вполне реальных страданий и, следовательно, как и эстетическое созерцание, совместима с пессимизмом.
V) Почему метафизика Ш. приняла форму монистического волюнтаризма? То есть, почему Ш. признал именно волю сокровенной сущностью вещей и почему всякая множественность индивидуальностей (множественность вещей и сознаний) представляется ему лишь видимым отображением единой мировой воли. Ответ на первый вопрос, как нам кажется, может быть получен из сопоставления личности Ш. с его метафизическим принципом. Дисгармония в волевой деятельности, мучительный разлад между жаждой жизни и в то же время полной неудовлетворенностью ее содержанием — вот что было источником личной трагедии Ш.; этой трагедии он придал характер мировой трагедии. Подобно тому как художники воплощают в типы, объективируют в художественные образы лично глубоко выстраданное и тем как бы снимают с себя бремя страданий, метафизики нередко объективируют характерные черты собственной личности в мировую сущность. В развивающейся мировой идее Гегеля, в его стройном, ясном панлогизме просвечивает портрет самого Гегеля ("ein ruhiger Verstandesmensch"), в непрерывно деятельном абсолютном "я" Фихте много общего опять-таки с самим Фихте, косный, неподвижный мир "реалий", чуждый всякого изменения и движения, напоминает "вялого и скучного господина", каким был Гербарт. Здесь везде черты, которыми мыслитель характеризует "абсолютное", сводятся к бессознательной антропоморфической проекции в область трансцендентного, некоторых типичных особенностей самого философа. Что же касается второго вопроса о монизме Ш., то эта черта его системы представляет логически необходимое следствие его радикального идеализма. Идеализм Ш., как и идеализм Фихте, близко подходит к солипсизму. Если Ш. не отрицает эмпирической реальности множественности сознаний, то он безусловно отвергает ее трансцендентную реальность; Ш. ссылается на индийскую философию: "Нае omnes creaturæ in totum ego sum et præter me ens aliud non est, et omnia ego creata feci" (Oupnekhat, см. "Paregra", II, I, § 31). Пространство, время, материя, число, все это свойства мира-представления — вне представления эти понятия не имеют никакого значения, а между тем перенесение категории количества на потустороннюю сущность явлений, например в форме монадологии, было бы уже выходом за границы радикального идеализма, к какому тяготел Ш. Может быть, сама нелюдимость, постоянное одиночество Ш. поддерживало в нем настроение, благоприятное для развития солипсической точки зрения. Впрочем, как мы увидим ниже, Ш. вводит в понятие единой воли множественность потенций или Идей, в частности множественность "умопостигаемых характеров", равных по числу множественности человеческих сознаний. Это противоречие исследуется ниже.
Теория познания Ш. Она изложена у Ш. в его диссертации: "О четверичном корне достаточного основания". В познании могут быть два односторонних стремления — сводить число самоочевидных истин к чрезмерному минимуму или чрезмерно умножать их. Оба эти стремления должны уравновешивать друг друга: второму следует противопоставить принцип гомогенности: "Entia praeter necessitatem non esse multiplicanda", первому — принцип спецификации: "Entium varietates non temere esse minuendas". Только принимая в расчет сразу оба принципа, мы избежим односторонности рационализма, стремящегося все познание извлечь из какого-нибудь A=A, и эмпиризма, останавливающегося на частных положениях и не достигающего наивысших ступеней обобщения. Исходя из этого соображения, Ш. переходит к анализу "закона достаточного основания", чтобы выяснить природу и число самоочевидных истин. Исторический обзор тех толкований, которые давали прежде закону достаточного основания, обнаруживает многие неясности, из которых важнейшая, замечаемая у рационалистов (Декарт, Спиноза), заключается в смешении логического основания (ratio) с фактической причиной (causa). Чтобы устранить эти неясности, надо прежде всего указать на ту коренную особенность нашего сознания, которой определяются главные разновидности закона достаточного основания. Это свойство сознания, образующее "корень закона достаточного основания", есть неотделимость субъекта от объекта и объекта от субъекта: "все наши представления суть объекты субъекта и все объекты субъекта суть наши представления. Отсюда вытекает, что все наши представления находятся между собой в закономерной связи, которую можно определить a priori в том, что касается формы; в силу этой связи ничто изолированное и независимое, одиноко, особняком стоящее, не может стать нашим объектом" (в этих словах Ш. почти буквально воспроизводит формулу идеализма, какую дает Фихте в трех теоретических положениях "Наукоучения"). Из "корня" разветвляются четыре вида закона достаточного основания.
1) Закон достаточного основания "бывания". Явления, в их конкретной полноте данные нашей интуиции, составляют объект первой формы закона достаточного основания. Представления сознаются нами в пространстве и времени. Пространство есть форма внешнего, время — внутреннего чувства. Без первого не было бы никакого сосуществования, без второго — никакой последовательности и смены. Пространство и время никогда не даны нам сами по себе: они всегда заполнены чувственным материалом в виде представлений. Представления имеют объективную видимость, они предстоят перед нами. Эта объективность, кажущаяся независимость объектов представления от сознания, и породила реалистический взгляд на вещи, согласно которому причиной объективного характера наших представлений нужно считать "вещь в себе", аффицирующую наше сознание, но существующую в виде реального мира независимо от сознания. Мальбранш, Беркли и особенно Кант много содействовали рассеянию этой метафизической иллюзии. Она устраняется правильным пониманием первой формы закона достаточного основания — а именно достаточного основания бывания (principium rationis sufficientis fiendi) или закона причинности. Во всякой смене в созерцаемых нами объектах мы замечаем известную правильность. Всякая перемена предполагает другую, ей предшествующую, являющуюся по отношению к первой причиной. Все мировые перемены образуют серию, уходящую неопределенно далеко во времени назад in indefinitum. Понятие первопричины, т. е. причины, которая сама не есть действие, нелепо: причинность "не извозчик, которого отсылают домой, когда он больше не нужен". Она, подобно пространству и времени, представляет априорную функцию сознания: непрерывность, единство перемен в мире-представлении делает невозможным в нем хаос: наш ум, благодаря от рождения заложенной в нем функции причинности, сначала инстинктивно вносит пространственно-временной распорядок, а следовательно, и закономерность в течение наших представлений, а затем мы уже умом "опознаем" наличность этой функции в нашем сознании. Двумя необходимо связанными с законом причинности корролариями являются: закон инерции и закон постоянства субстанции. Что тело сохраняет состояние покоя или движения известной скорости вечно без всякого изменения, если на него не оказывает действия какая-нибудь причина, изменяющая его состояние; что, с другой стороны, никакая частица вещества не может даже помыслиться нами превращенной в ничто или сотворенной из ничего — это два положения, представляющие простое следствие закона причинности. Благодаря врожденному неискоренимому стремлению ума предполагать в непрерывном потоке перемен причинную обусловленность каждой отдельной перемены, мы бессильны представить себе нарушение этих двух законов. Субстанциальность вещей, их устойчивый материальный характер вовсе не требует, чтобы мы предполагали за чувственной оболочкой наших восприятий материальную субстанцию в виде потустороннего ядра явлений. Представление постоянства и устойчивости вносится нами самими в познание внешнего мира вместе с законом причинности. Закон субстанциальности соотносителен с законом причинности, представляет его отдельную сторону. Самые корни слов материя (matra — матерь), действительность (Wirklichkeit) указывают, что материальность, эмпирическая реальность явлений прежде всего определяется их действенной природой, т. е. тем, что мир-представление образует поток причинно обусловленных перемен. А раз само понятие причинности вместе с пространством и временем вносится нами в хаос ощущений и раз господство именно этого понятия над миром-представлением и порождает в наших глазах иллюзорную независимость от сознания объектов восприятия, внося в их существование закономерность и относительную устойчивость, то и очевидно, что применение форм пространства, времени и причинности ограничено именно миром-представлением, миром явлений: эти формы не эмпирически реальны, а трансцендентно идеальны, т. е. к чему-либо, кроме представлений, данных в опыте, неприменимы, будучи простыми функциями представляющего сознания. Как уже замечено, мы первоначально непосредственно пользуемся интуициями пространства, времени и причинности, и лишь впоследствии путем рефлексии опознаем их. Что наш ум производит над сырым материалом ощущений известную инстинктивную, бессознательную работу, это можно видеть на анализе процесса зрительного восприятия. При воздействии света на глаз в нашем сознании возникает масса цветовых и световых ощущений, которые упорядочиваются деятельностью ума в связную гармоничную картину внешнего мира. Рассудок "переворачивает" изображение объекта, получающееся на сетчатке в опрокинутом виде, вверх ногами. Во-вторых, он учит нас истолковывать два изображения, получаемые глазами от каждого предмета, как одно изображение одного предмета. Далее, он "строит из плоских поверхностей, которые только и восприняты, тела", т. е. при участии умственной деятельности в нас вырабатывается способность располагать зрительные ощущения в 3-м измерении, перспективно. Наконец, при его помощи мы учимся оценивать расстояние предметов (эта теория зрения Ш. так же, как и лежащее в ее основе понимание закона причинности как врожденной функции интеллекта, имело сильное влияние на Гельмгольца, который в существенных чертах примыкает к Ш. во взгляде на роль закона достаточного основания бывания в зрительном восприятии). Из английских мыслителей, по-видимому, под сильным влиянием Шопенгауэровской теории зрения находится Мансель (см. его большую статью: "Метафизика" в "Encyclopaedia Britannica", 8-е изд.). Исследуя специальные формы закона причинности, Ш. отмечает в природе существование трех типичных видов закона достаточного основания бывания.a) Причинность в собственном смысле слова (Causalität) есть причинность механическая, наблюдаемая в мире неорганизованном (физические и химические процессы). Только к этой механической причинности приложим третий основной закон Ньютона — действие равно противодействию. b) Раздражимость (Irritabilität) это — причинность, господствующая над миром организованным — над растениями и над бессознательными функциями животного организма (так называемые растительные функции — питание, восстановление тканей и т. п.). Здесь действие не равно противодействию, и интенсивность действия не может измеряться интенсивностью причины; мало того, может оказаться, что усиление причины вызовет эффект прямо противоположный ожидаемому нами. c) Мотив, т. е. состояние сознания в виде, например, ощущения, которое предваряет действие, совершаемое животным — это, так сказать, причинность, прошедшая сквозь сознание животного, "опознанная" им. Животные приходят в движение, побуждаемые целями, и, следовательно, в том, что они нечто познают, заключается их отличительная черта от растений. Проявление раздражимости организма требует времени, нередко непосредственного прикосновения раздражителя, между тем как мотивация может быть почти мгновенной и не требует непременно наличности внешнего объекта.
2) Закон достаточного основания познания (principium rationis sufficientis cognoscendi). Все животные обладают умом, т. е. инстинктивно упорядочивают ощущения в пространстве и времени и руководствуются законом причинности, но ни одно из них, за исключением человека, не обладает разумом, т. е. способностью из конкретных единичных представлений вырабатывать понятия — представления, отвлеченные от представлений, не представимые, но мыслимые и символически обозначаемые словами. Животные неразумны — не обладая способностью к выработке общих представлений, они не говорят и не смеются. Способность образовывать понятия весьма полезна: понятия содержанием беднее единичных представлений, они являются в нашем уме заместителями целых классов, заключающихся под ними видовых понятий и единичных объектов. Такая способность при помощи одного понятия охватывать мыслью существенные признаки объектов, не только непосредственно данных, но также принадлежащих и прошедшему, и будущему, возвышает человека над случайными условиями данного места и времени и дает ему возможность размышлять, между тем как ум животного почти всецело прикован к потребностям данного мгновения, его духовный горизонт и в пространственном, и во временном смысле чрезвычайно узок, человек же в рефлексии может даже "отмыслить прочь" самое пространство. Таким образом, способность образовывать понятия является незаменимым средством экономизировать духовные силы. Но понятия, чтобы не быть пустыми, должны иметь соответствующие интуиции; последняя относятся к первому, как звонкая монета к ассигнации, вся ценность ассигнации зависит от того, является ли она истинным заместителем металла или ничего не стоящей фальшивой бумажкой. Всякое отчетливо выраженное отношение между понятиями может быть выражено суждением. Мало того, суждение, как логическое отношение между двумя элементами мысли, есть ее первичный акт: обычное во многих курсах логики истолкование суждения как продукта соединения двух понятий совершенно неверно: понятия суть мертвый, застывший продукт акта сопоставления элементов представления, образующих субъект и предикат суждения. Суждение, как основной познавательный акт, всегда должно иметь достаточное основание, т. е. быть истинным; иначе говоря, устанавливаемая им совместимость или несовместимость понятий должна быть истинной. Эта истинность определяется именно законом достаточного основания познания, который заключается в соответствии нашего мышления закону тожества, противоречия и исключенного третьего, ибо на этих законах зиждется вся формально-логическая правильность наших понятий, суждений и умозаключений.
3) Закон достаточного основания бытия (pr. rationis sufficientis essendi). Уже выше было указано, что пространство и время суть формы интуиции, в которые, так сказать, отливается весь доступный нашему познанию чувственный материал — все познаваемое нами бытие. Все части пространства и времени, благодаря непрерывности того и другого, находятся между собой в своеобразных закономерных отношениях. Эти отношения не суть причинные и не суть отношения логические; так, например, соотношение суммы углов треугольника и 2-х прямых углов не есть причинное соотношение: мы устанавливаем равенство того и другого, но они не причинно порождают одно другое; равным образом в понятии суммы углов треугольника не заключено логически понятие равенства 2 прямым: мы постигаем равенство того и другого не умом и не разумом, а непосредственным созерцанием: мы видим, так сказать, это равенство, поэтому raison d'être пространственных законов заключается в существовании своеобразных форм синтеза, очевидность которого почерпается непосредственно из созерцания пространственных отношений; raison d'être временных количественных соотношений, из которых вырабатывается понятие числа и на которых зиждется арифметика, опять-таки заключается в своеобразных формах временного синтеза — последовательный счет. Стремление замещать интуитивную самоочевидность, почерпаемую из созерцания дискурсивными, так сказать, алгебраическими доказательствами в геометрии — большая ошибка, и в эту ошибку впадает часто Евклид, давая дискурсивные, а не интуитивные доказательства в своих "Началах". Так, например, в его доказательстве Пифагоровой теоремы он вынуждает нас путем побочных рассуждений признать теорему истинной, между тем как ее можно было бы известным построением сделать прямо очевидной, не требующей логического доказательства, но лишь внимательного взгляда на чертеж. Для случая с равными катетами Ш. предлагает интуитивное доказательство. Для случая с неравными катетами Ш. не дал подобного же доказательства, но Гартман, примыкая в этом пункте к взглядам Ш., дает в "Философии бессознательного" древнее индийское интуитивное доказательство и для этого случая. С точки зрения Ш., идеальным учебником элементарной геометрии было бы руководство, состоящее почти исключительно из талантливо составленных чертежей. Такая геометрия должна заменить Евклида, который своими дискурсивными доказательствами порождает в нас convictio — вынужденное убеждение в истинности теоремы, а не comprehensio, наглядное уразумение ее истинности. Знаменитый спор о теории параллельных линий есть карикатурный результат Евклидова метода: 11-й постулат Евклида, гласящий, что перпендикуляр и наклонные при достаточном продолжении должны пересечься, кажется математикам недостаточно очевидным, и они по глупости тщетно ищут для этого постулата доказательств, которых, разумеется, никогда не найдут, потому что этот постулат обладает самой непосредственной достоверностью, какая только возможна. По поводу этой чрезмерной добросовестности математиков невольно вспоминаешь двустишие Шиллера: "Уже целые годы пользуюсь моим носом, чтобы нюхать, но могу ли я доказать, что обладаю подлинным правом им пользоваться?" Взгляды Ш. на преподавание и изложение геометрии нашли себе последователя в лице Козака.
4) Четвертый вид закона достаточного основания есть закон мотивации (princ. rationis sufficientis agendi). Всякое познание предполагает субъект и объект. В процессе мотивации субъект познает сам себя. Это распадение самого субъекта на познающее и познаваемое возможно лишь в том случае, если субъект является для самого себя объектом как волящий, а не как познающий, ибо "я" само не может быть объектом представления, на что указывают упанишады: "Id videndum non est, omnia videt; et id audiendum non est, omnia audit; sciendum non est, omnia scit, et intelligendum non est, omnia intelligit. Præter id, videns et sciens et audiens et intelligens ens aliud non est". Итак, мы познаем себя лишь волящими. Наши воления предваряют наши действия, причем влияние мотива на поступок познается не извне опосредствованным образом, как другие причины, но непосредственно и изнутри, поэтому мотивация есть причинность, рассматриваемая изнутри. Познающий субъект может упражнением регулировать смену представлений, входящих в состав мотивации; таково, например, упражнение памяти.
Бросая общий взгляд на четыре формы закона достаточного основания, сделаем несколько общих замечаний. a) Возможность рассматривать основания как следствия, и обратно, в первой и четвертой формах закона вовсе не дана — невозможна реципрокация причин и действий, мотивов и поступков: здесь причинные ряды необратимы. В области закона достаточного основания бытия реципрокация оснований и следствий возможна (обратные теоремы) и также в области закона достаточного основания познания она возможна, но лишь в случае равнозначных понятий, объемы которых совпадают; в других случаях получается circulus vitiosus. b) Соответственно четырем типам закона существует четыре вида необходимости: физическая, логическая, математическая и моральная (т. е. психологическая). c) Указанное подразделение закона достаточного основания на четыре типа может быть положено в основу классификации наук. A) Науки чистые или априорные: 1) учение об основании бытия: а) в пространстве: геометрия; б) во времени: арифметика, алгебра. 2) Учение об основании познания: логика. B) Науки эмпирические или апостериорные: все основаны на законе достаточного основания бывания в его трех формах: 1) учение о причинах: а) общих: механика, физика, химия; б) частных: астрономия, минералогия, геология; 2) учение о раздражениях: а) общих: физиология (а также анатомия) растений и животных; б) частных: зоология, ботаника, патология etc.; 3) учение о мотивах: а) общих: психология, мораль; б) частных: право, история.
Метафизика Ш. К только что изложенному гносеологическому учению Ш. примыкает его метафизическое воззрение на волю как сущность бытия. В 1813 г., когда Ш. заканчивал свою первую работу, его отношение к "вещи в себе" вообще было сдержанным: он говорит о "подозрительном" понятии "вещи в себе" и указывает на его противоречивый характер. В книге "Мир как воля и представление" оказывается, что этому понятию соответствует некоторое положительное содержание. Но, признавши причинность субъективной функцией интеллекта, невозможно без противоречия самому себе признать познаваемость вещи в себе, ибо в таком случае пришлось бы допустить причинное воздействие ее на познающий субъект, т. е. перенести закон причинности за пределы сознания. Ш., однако, полагает, что он избег упрека в contradictio in adjecto, ибо, по его мнению, мы постигаем существование и природу вещи в себе алогистическим, интуитивным, непосредственным, мистическим путем. Для нашего интеллекта дан лишь мир-представление, но непосредственное чувство, сопровождающее "неясное разграничение субъекта и объекта", внутренним путем вводит нас в сущность всякого бытия, в волю. Победоносно указывать на существование противоречия у Ш. в признании воли, как психического субъективного явления, объективной сущностью мира — значит, не понимать того, что Ш. в свою систему сознательно допускает алогистические элементы. Наше тело знакомит нас и с физическими, и с психическими переменами: в движениях его нам нередко дана причинность в форме и бывания, и мотивации. Вот тут-то в актах, совершаемых нами одновременно по механической причинности и по мотивам, нам непосредственно становится очевидным, что общим корнем и физического, и психического является мировая воля. Очевидность эта есть самоочевидность — она не нуждается в логическом обосновании, тем не менее бесчисленное множество фактов, вся структура мира-представления убедительно говорит нашему чувству, что это так. Какими же чертами характеризуется мировая воля? 1) Она алогистична: ей чужды наши законы достаточного основания — пространство, время, причинность и подчиненность законам мысли. Ее независимость от законов мысли делает понятным, почему противоречивость этого понятия (воли — вещи в себе) не должна нас смущать. 2) Она бессознательна: раз сознание есть условие существования мира-представления, воля, как потусторонняя сущность мира, должна быть чем-то лежащим вне условий сознания, чем-то бессознательным. 3) Она едина: раз principia individuationis (пространство и время) неприложимы к сущности явлений, последняя должна быть единой. 4) К ней, строго говоря, неприложимы и понятия духовного, и материального — она представляет нечто возвышающееся над этими противоположностями, не поддающийся логически-точному определению claire-obscure в области понятий: слепое стихийное побуждение, движение и в то же время стремление к жизни, к бытию в индивидуальных чувственных формах. Титаническая борьба сил в неорганической природе, вечное зарождение новой жизни, жадное, непрерывное, безмерно-изобильное в природе (гибель бесчисленного множества зародышей) — все это свидетельствует о непрестанном распадении или воплощении единой вневременной и внепространственной воли в множестве индивидуальностей. Хотя мировая воля едина, но в мире-представлении ее воплощения образуют ряд ступеней объективации. Низшей ступенью объективации является косная материя: тяжесть, толчок, движение и т. д. представляют аналог влечениям — в основе их, как внутреннее ядро так называемых материальных явлений, лежит воля, единая сущность мира. Органические формы растительные и животные возникли из низших видов материи, но их происхождение не сводимо к физико-химическим процессам: вся природа образует устойчивую иерархию сущностей; этим ступеням воплощения воли соответствует мир неподвижных образов для воплощения воли, мир Идей в Платоновском смысле слова. Этот мир Идей является как бы третьей промежуточной областью между единой мировой волей и миром-представлением, и в этом смысле его допущение влечет за собой, по-видимому, новые противоречия: 1) воля едина, как же может ей соответствовать множественность Идей, как ступеней воплощения, если под этими ступенями мы не будем разуметь простое логическое единство существ одного рода, но, например, "львиность", leonitas, как особую сущность, промежуточную между единичными львами и одной мировой волей? 2) С другой стороны, описывая ступени объективации воли в природе, Ш. отмечает в ней удивительную целесообразность, проявляющуюся в соответствии строения организма окружающей среде, соответствии органов животных и растений их назначению, в изумительной полезности инстинктов и, наконец, в явлении симбиоза. Целесообразность предполагает действие по целям, разумность, воля же, как сказано, алогистичиа. По поводу первого возражения нужно сказать, что в учении об Идеях в Ш. эстетик, созерцающий природу, перевешивает логика, стремящегося понять ее в свете законов познания: нельзя сказать, чтобы Ш. считал Идеи чисто субъективным способом понимать структуру мира-представления, с другой стороны, действительно, мир Идей, как нечто множественное, несовместим с единством воли, если только не допустить в воле мистического тожества противоположностей, т. е. признать explicite совместимость в ее природе противоречащих свойств. По поводу второго замечания нужно сказать, что взгляды на объективность целесообразности в природе у Ш. не всегда вполне выдержаны в одном смысле. Кант в "Критике способности суждения" показал, что суждение о целесообразности природы может претендовать на объективную значимость только для эстетически настроенного и верующего в потусторонний смысл явлений человека. С точки же зрения познания и науки нельзя доказать существования объективных целей в природе. Ш. довольно близко стоит к этой точке зрения, с той разницей, что понятие веры он заменяет понятием мистического прозрения в сущность вещей в художественной интуиции. К этому следует прибавить, что целесообразные продукты природы целесообразны лишь в весьма условном и ограниченном смысле слова: в растительном и животном мире (включая как высшую ступень объективации воли — человека) происходит ожесточеннейшая борьба всех против всех — воля, распадаясь на множественность индивидуумов, как бы приходит в столкновение в своих частях за обладание материей: две половинки перерезанного насекомого, вступающие между собой в борьбу, как бы символизируют это жадное утверждение воли к жизни. Следовательно, в конечном итоге организованный мир, при всем относительном соответствии своего устройства условиям существования, обречен на вечную жесточайшую борьбу, происходящую между особями и группами за обладание материальными благами, что является источником величайших страданий. Но этого мало. Ш. не мог вообще, оставаясь последовательным и не прибегая к волшебству мистической интуиции, признавать какую бы то ни было объективную целесообразность, т. е. имеющую место в природе вне моего сознания, ибо этому препятствовал его радикальный, приходивший в столкновение с эволюционизмом идеализм. Как сказано, Ш. был трансформистом, т. е. предполагал происхождение высших животных форм из низших, а последних из косной материи путем generatio aequivoca, причем такое развитие организмов совершалось скачками при исключительно благоприятных условиях и особенностях эмбрионального развития — случайной вариации, и, по его мнению, сразу зарождался новый вид. Спрашивается, как совместить идеализм с эволюционизмом? Ведь сознание появилось в мире лишь с появлением животных. Его нет у минералов, у растений есть лишь quasi-сознание, лишенное познания (отсутствие познания у них Ш. доказывает той наивностью, с которой они выставляют напоказ свои роскошные половые органы). Как же объяснить эти существования до сознательного бытия? На эту головоломную проблему Ш. дает следующий ответ: "Предшествовавшие всякой жизни на земле геологические перевороты не существовали ни в чьем сознании, ни в собственном, которого у них нет, ни в чужом, ибо его тогда не было. Следовательно, за отсутствием всякого субъекта, они вовсе не имели объективного существования, т. е. их вообще не было, или что же после этого должна означать их прошедшая бытность?" На этот вопрос Ш. отвечает: "Оно (т. е. объективное существование) в сущности гипотетично, т. е. если бы в то первоначальное время существовало сознание, то в нем изображались бы такие процессы. К этому приводит каузальный регресс явлений, следовательно, в вещи в себе заключалась необходимость изображаться в таких процессах". Итак, вся эволюция досознательного мира обладает эмпирической реальностью, как регрессивно строящаяся моим научным воображением перспектива прошлого мира, но эта перспектива в то же время обладает трансцендентной идеальностью, хотя в вещи в себе заложена возможность именно таких, а не иных форм этой иллюзорной, но строго закономерной объективации природы в ряде ступеней. За растениями, обладающими quasi-сознанием без познания, следуют, как высшая ступень объективации, животные, как существа, обладающие умом, а из последних (по всей вероятности, из орангутанга в Азии или шимпанзе в Африке) возник и человек, обладающий разумом. В человеческих индивидуумах воля находит себе окончательное и полное воплощение: не человечеству, как роду, но каждому человеку соответствует особая Идея или потенция в мировой воле; следовательно, в человеке воля индивидуализируется во множественности единичных "умопостигаемых характеров". В психологическом учении Ш. часто отмечали противоречие между его идеалистической теорией познания и материалистическим описанием взаимодействия физического и психического (мышление для мозга то же, что пищеварение для желудка, в философии Канта надо везде на место "познавательная способность" ставить "мозг" и т. п.). Эти упреки, делаемые философу, едва ли основательны, если только мы допустим понятие воли, как психоматерии; отвергая же подобное понятие, мы, конечно, придем весьма легко к множеству противоречий между материалистической психологией и идеалистической гносеологией Ш. Самое первичное, исконное, коренное в человеке — то, чем характеризуется его сущность, это — воля (чувствования и страсти Ш. включает в понятие воли, в противоположность познавательным процессам). Интеллект — другая основная психическая способность — играет по отношению к воле служебную роль. Нами постоянно руководит воля — она всячески влияет на интеллект, когда он расходится с ее стремлениями. Ш. не находит достаточно ярких красок, чтобы показать, как часто страсть фальсифицирует доказательность доводов разума (см. его очаровательную статью "Эристика"). "Здоровый слепец, несущий на плечах немощного зрячего" — вот символ отношения воли к познанию. Господство воли над интеллектом и ее вечная неудовлетворенность является источником того, что жизнь человека есть непрерывный ряд страданий: вечный разлад между разумом и ненасытной волей — вот корень пессимистического взгляда на жизнь Ш. Шопенгауэр, по справедливому замечанию Гартмана, не подвергает проблему пессимизма методическому исследованию, но дает ряд ярких картин бедствий человечества, картин, поражающих нередко силой изображения, но тенденциозных и односторонних в смысле беспристрастной оценки жизни. Важнейшие его доводы сводятся к указанию на непрочность, мимолетность наслаждений и на их иллюзорный характер. Неудовлетворенность составляет главную подкладку наслаждения. Как только желаемое достигнуто нами, снова возникает неудовлетворенность, и мы вечно переходим от страдания к скуке и обратно через кратковременные промежутки неполного удовлетворения. Но этого мало, самое удовольствие не реально — страдание есть нечто положительное, удовольствие же сводится к простому контрасту с минувшим страданием, т. е. к непродолжительному отсутствию страдания. Прелесть молодости, здоровья и свободы, лучших даров жизни, начинает ощущаться нами лишь после потери их. К этому следует прибавить всю ту массу зла, которую вносит в мир несчастный случай, человеческие эгоизм, глупость и злоба. Честные, умные и добрые люди — редкое исключение. Прекрасная душа подобна "четырехлистному клеверу": она чувствует себя в жизни, как "благородный политический преступник на каторге среди обыкновенных преступников". Если в индивидуальной жизни не может быть истинного счастья, то еще в меньшей степени можно ожидать такового для всего человечества. История есть никогда не повторяющийся калейдоскоп единичных случайностей: в ней нет никакого единого процесса, никакого прогресса, никакого плана, человечество неподвижно, что понятно из иллюзорности времени. Последнее соображение, однако, не совсем понятно, так как учение о трансцендентной идеальности времени не мешало Ш. признавать эмпирическую реальность эволюции организованного мира, почему же он отказывает в такой реальности эволюции человечества? Даже умственный прогресс, не говоря о нравственном, Ш. подвергает сильному сомнению. Единственными оазисами в земном существовании служат философия, наука и искусство, а также сострадание другим живым существам. Пессимизм Ш. не есть крайний пессимизм, и в этом отношении последние шаги до крайних пределов скорби были сделаны Юлиусом Банзеном, который отрицает в мире последние остатки разумности, эстетической ценности и моральности: этот антилогизм и мизерабилизм составляет истинную полярность Гегелю, по замечанию Гартмана. Ш. в значительной степени еще смягчает свой пессимизм указанием на моральное значение мира; в этом отношении Ш. соприкасается с Фихте, но как симметричная противоположность. По Фихте, распадение абсолютного "я" на множественность эмпирических воль есть следствие необходимости реализовать добро. По Ш., распадение воли на множественность индивидуальных существований — утверждение воли к жизни есть вина, и искупление ее должно заключаться в обратном процессе — в отрицании воли к жизни. Относясь презрительно к иудейской религии, Ш., однако, высоко ценит сказание о грехопадении (это "блестящий пункт"). В связи с этим взглядом у Ш. мы находим своеобразное воззрение на половую любовь. В этом удивительном явлении просвечивает метафизическая основа жизни. Любовь есть неудержимый инстинкт, могучее стихийное влечение к продолжению рода. Влюбленный не имеет себе равного по безумию в идеализации любимого существа, а между тем все это "военная хитрость" гения рода, в руках которого любящий является слепым орудием, игрушкой. Привлекательность одного существа в глазах другого имеет в основе своей благоприятные данные для произведения на свет хорошего потомства. Когда природой эта цель достигнута, иллюзия мгновенно рассеивается, "с глаз повязка упадает, и все, что обольщало нас, как призрак, исчезает". Такой взгляд на любовь между полами, естественно, делает женщину главной виновницей зла в мире, ибо через нее происходит постоянное новое и новое утверждение воли к жизни. Быть может, этим, а не одним только личным женоненавистничеством объясняется то презрительное отношение к уму, нравственным качествам и даже красоте женщин. Природа, создавая женщину, прибегла к тому, что на театральном жаргоне называется "трескучим эффектом". "Узкоплечий, широкобедрый, низкорослый пол" лишен всякой истинной оригинальности духа, женщины не создали ничего истинно великого, они легкомысленны и безнравственны. Женщины, как и дети, должны состоять под опекой государства, достоверность их показания на суде ниже показаний мужчин; благодаря их мотовству и стремлению к роскоши, происходит 9/10 экономических бедствий человечества; наиболее правильный взгляд на общественную роль женщины — гаремный: турки в этом отношении умнее европейцев. В конце концов, Ш. мог сказать вместе с Пшибышевским, что женщина — это та веревка, на которой черти тащат души грешников в ад. Итак, подтверждение воли к жизни ведет человечество лишь к бедствиям, и только обратный процесс отрицания воли к жизни ведет к облегчению. Кроме философского познания, есть три стороны в жизни человека, смягчающие тягостность существования и содействующие облегчению благодатного процесса искупления, — это эстетическое созерцание, мораль сострадания и аскетический "квиетив воли".
Эстетика Ш. С раннего детства Ш., имея возможность путешествовать, мог развивать свой эстетический вкус, а чувство красоты пробудилось в нем с особенной силой при знакомстве в классическим миром. Учителем греческого языка в Веймаре у Ш. был хороший классик; под его руководством Ш. изучал Гомера, и его безмерное восхищение перед античным гением выразилось в курьезном парафразе "Отче наш" ("Отче наш, Гомер, и т. д."). В эстетическом наслаждении впоследствии Ш. нашел великое облегчение в житейских невзгодах: оно оазис в пустыне жизни. Сущность искусства сводится к наслаждению безвольным созерцанием вечно совершенных Архетипов-Идей и мировой воли — идей, поскольку последние находят себе выражение в образах чувственной красоты. Сами идеи вневременны и внепространственны, но искусство, пробуждая в нас чувство красоты в прекрасных образах, дает нам возможность прозревать сверхразумным мистическим путем сокровенную сущность мира. Отдельные искусства и их роды соответствуют преимущественно отображению определенной ступени объективации мировой воли. Так, например, архитектура и гидравлика, примененные с художественной целью (искусственные водопады, фонтаны), отображают низшие ступени объективации воли в неорганизованном мире — в них проявляется в эстетической оболочке идея тяжести. Изящное садоводство и ландшафтная живопись символизируют растительный мир. Скульптура животных (Ш. вспоминает о ватиканской коллекции) — следующую ступень объективации. Наконец, человеческий дух, помимо скульптуры и живописи, находит наиболее полное выражение в поэзии, особенно в драме и трагедии, которые и раскрывают перед нами истинное содержание и смысл человеческой жизни. Трагедии — истинная противоположность всякого филистерства. Пресловутая поэтическая справедливость придумана филистерами, "дабы добродетель хоть в конце концов дала бы какую-нибудь прибыль". Греческие трагики, "Фауст" Гёте, Шекспир, Байрон с его "Каином", "Inferno" Данте приводятся Ш. как наивысшие образцы поэзии. Но есть еще одно искусство, самое высокое среди всех других, это — музыка. Музыка не есть выражение какой-нибудь ступени объективации воли, она есть "снимок самой воли", она есть полнейшее мистическое выражение ее глубочайшей сущности. Бас символизирует низшие формы объективации воли — косную материю, мелодии — человеческий дух, средние голоса — промежуточные ступени объективации. Поэтому связывать музыку с текстом, делать ее орудием для выражения специальных чувствований (например, в опере) — это значит суживать ее значение: она воплощает в себе (например, в симфонии Моцарта) волю во всей ее полноте. Высоко ценя трагическое в искусстве, Ш. отводит надлежащее место и комическому, предлагая особую теорию смешного. Смешное должно было обратить на себя внимание Ш. как эстетическое освещение мировой дисгармонии. Сущность смешного заключается в неожиданном подведении известного конкретного факта, известной интуиции под несоответствующий концепт. Все смешное можно выразить в форме силлогизма, где большая посылка неоспорима, а меньшая неожиданна и проскальзывает, так сказать, в рассуждение незаконным путем. Так, например, однажды, когда в Париже было запрещено пение "Марсельезы", театральная публика стала требовать от актеров, чтобы они ее исполнили. На сцене появился жандарм и заявил шумящей толпе, что на сцене не должно появляться ничего такого, что не значится в афише. "А вы-то сами значитесь на афише?!" — крикнул кто-то из публики, чем и вызвал гомерический смех в театре. В своей эстетике Ш. ограничивается преимущественно указанием метафизического содержания искусства, сравнительно менее он останавливается на формальных условиях красоты, подробнее исследованных гербартианцами; на исторической эволюции прекрасного (Гегель), на оценке процесса одухотворения ("Einfühlung") антропоморфической социализации мировых явлений в искусстве Ш. вовсе не останавливается. Влияние метафизики и метафизической эстетики Ш. на поэтов, художников и музыкантов было весьма велико. Любопытно, однако, что, например, Вагнер, который высоко ценил Ш. и которого считают выразителем шопенгауэровских идей в "Нибелунговом перстне", в "Тристане" и "Парсифале", додумался до родственных с ним в некоторых отношениях взглядов еще до знакомства с философией Ш. Чайковский, глубоко интересовавшийся Ш., не разделял его взглядов, как это видно из весьма интересных замечаний в его переписке (т. II).
Этика Ш. Кроме художественного прозрения в сущность мира, есть еще другой путь к освобождению себя от страданий, это — углубление в моральный смысл бытия. Как уже сказано, Ш. не мог быть эвдемонистом, но мог он примкнуть и к императивной этике Канта. Πρώτον ψευδος Канта — голословное принятие абсолютной обязательности нравственного закона, на самом деле нравственный закон гипотетичен, а не категоричен: его императивный характер Кант втихомолку заимствовал у Моисея; на самом деле категорический императив — фетиш вроде Вицли-Пуцли. "Морали приходится иметь дело с действительными поступками человека, а не с априористической постройкой карточных домиков, к которой не обратился бы ни один человек под суровым напором жизни и которая поэтому перед бурей страстей значила бы не более, чем клистирная трубка на пожаре". Кроме бессодержательного формализма, этика Канта страдает еще, по мнению Ш., тем, что ограничивается исследованием только моральных отношений между людьми, совершенно забывая о животных (мысль, высказанная также Бентамом и Жан Полем, впоследствии ее развивают Вагнер, Толстой, Достоевский и Соловьев). Моральную проблему Ш. тесно связывает с вопросом о свободе воли. Воля едина, но, как сказано, она включает в себя мистическим образом множественность потенций объективации в виде Идей и, между прочим, некоторую множественность "умопостигаемых характеров", численно равную числу человеческих индивидуумов в опыте. Этот "умопостигаемый характер" каждого человека, кроющийся в единой воле, напоминает "homo noümenon" Канта. Характер каждого человека в опыте строго подчинен законам достаточного основания, строго детерминирован. Ему свойственны следующие черты: 1) он прирожден, мы появляемся на свет, наследуя строго определенный характер от отца, умственные свойства от матери. Трусы рождают трусов, подлецы — подлецов. Если бы можно было кастрировать всех мерзавцев, а всех дур упрятать в монастырь, то на земле наступил бы рай. 2) Он эмпиричен, т. е. по мере нашего развития мы постепенно узнаем его и иногда против собственного ожидания открываем в себе известные присущие нам черты характера. 3) Он постоянен. В своих существенных чертах характер неизменно сопровождает человека от колыбели до могилы ("каков в колыбельке — таков и в могилку"); великий знаток человеческого сердца Шекспир именно такими изображает своих героев. Поэтому нравственное воспитание с точки зрения Ш., строго говоря, невозможно; американская пенитенциарная система тюремного заключения, состоящая в стремлении не исправить морально преступника, а заставить его быть полезным обществу, единственно правильная: преступник убеждается силой в том, что это будет для него самого самым выгодным образом действия. Воля человека, как эмпирической личности, строго детерминирована. Когда нам кажется, что мы можем в известном случае поступить, как нам угодно, т. е. располагаем абсолютно свободным выбором, то в этом случае нас можно уподобить воде, которая рассуждала бы следующим образом: "Я могу вздыматься высокими волнами (да, но в море и во время бури!), могу стремительно течь (да, именно в русле реки!), могу низвергаться с пеной и шумом (да, в водопаде!), могу свободной струёй подниматься в воздухе (да, в фонтане!), могу, наконец, выкипеть и испариться (да, при 80° P. тепла!); однако теперь я ничего не делаю, а остаюсь добровольно спокойной и ясной в зеркальном пруду". Итак, каждое звено в цепи поступков, образующих жизнь отдельного человека, строго обусловлено и предопределено причинной связью, весь его эмпирический характер детерминирован. Но та сторона воли, которая кроется в "умопостигаемом характере" человека, и, следовательно, принадлежит воле, как вещи в себе, внепричинна, свободна, ей присуща aseitas. Воплощение умопостигаемого характера в эмпирический, представляющее довременный свободный акт воли, и есть та первоначальная вина ее, что, по мнению Ш., удачно выражено христианством в учении о грехопадении. Вот почему чувство свободы воли и нравственной ответственности ищется в каждом человеке, оно имеет метафизическое основание во вневременном утверждении воли к жизни в умопостигаемом характере. Утверждение воли к жизни есть исконная вина каждого индивидуума, отрицание воли к жизни — единственный путь к искуплению. Это учение о свободе воли заключает в себе явные противоречия: воля в себе вневременная, между тем она совершает акт свободного выбора; она едина, а между тем заключает в себе множественность умопостигаемых характеров, и т. п. Но, отмечая этот факт, не надо забывать, что сам Ш. считался с ним. В письме к Беккеру (см. книгу Фолькельта, "Артур Ш., его личность и учение", русский перевод, стр. 332) он пишет: "Свобода — это такая мысль, которая, хотя мы ее и высказываем и отводим ей известное место, на самом деле не может быть нами отчетливо мыслима. Следовательно, учение о свободе мистично".
Человеческой деятельностью руководят три главных мотива: злоба, эгоизм и сострадание. Из них только последний есть мотив моральный. Представим себе двух молодых людей A и B, из которых каждый хочет и может безнаказанно убить соперника в любви, но затем оба отказываются от убийства; A мотивирует свой отказ предписаниями этики Канта, Фихте, Гутчисона, Адама Смита, Спинозы, B же просто тем, что пожалел противника. По мнению Ш., более нравственными и чистыми были побуждения В. Признание сострадания единственным мотивом моральной деятельности Ш. обосновывает психологически и метафизически. Раз счастье — химера, то и эгоизм, как стремление к призрачному благу, сопряженное с утверждением воли к жизни, не может быть моральным двигателем. Раз мир во зле лежит, и человеческая жизнь преисполнена страданий, остается лишь стремиться к облегчению этих страданий путем сострадания. Но и с метафизической точки зрения сострадание есть единственный моральный мотив поведения. В деятельном сострадании, приводящем нас к самоотречению, к забвению о себе и своем благополучии во имя чужого блага, мы как бы снимаем эмпирические границы между своим и чужим "я". Глядя на другого, мы как бы говорим: "Ведь это ты же сам". В акте сострадания мы мистическим образом прозреваем в единую сущность мира, в одну волю, лежащую в основе призрачной множественности сознаний. По поводу первого соображения Ш. нужно заметить, что, говоря о сострадании как моральном принципе, он отвергает сорадование как психологическую невозможность: если радость иллюзорна, естественно, что и сорадование немыслимо. Поэтому, говоря о деятельной любви, Ш. всегда разумеет любовь в односторонней форме сострадания, между тем как фактически это гораздо более сложное явление (Tiedge, "Urania": "Sei frohlich oder leide, das Herz bedarf ein zweites Herz, geteilte Freude ist doppelt Freude, geteilter Schmerz nur halber Schmerz"). Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимания той критики морали любви, которую впоследствии мы находим у Ницше, критики, которая выросла на почве односторонностей шопенгауэровского толкования и совершенно не задевает, но, наоборот, подкрепляет этику любви Толстого, Достоевского и Гюйо. С указанием на сострадание как на путь к отрицанию воли к жизни Ш. соединяет проповедь аскезы. Аскеза, т. е. пренебрежение всем, привязывающим нас к плотскому, земному, приводит человека к святости. Христианство постольку истинно, поскольку оно есть учение об отречении от мира. Протестантизм — "выродившееся христианство", это "религия любящих комфорт женатых и просвещенных лютеранских пасторов". Святость подготовляет нас к полному уничтожению в виде плотской индивидуальности. По мнению Ш., однако, простое самоубийство еще не есть истинное моральное отрицание воли к жизни. Очень часто, наоборот, самоубийство бывает конвульсивным выражением жадного, но не удовлетворенного утверждения воли к жизни. В этом смысле оно недостаточно для подготовки нас к блаженству погружения в небытие. По поводу того искупления мира, которое достигается святым, почитающим свою жизнь постепенной добровольной аскезой, Ш. был предложен двумя кадетами военной школы в Вейскирхене вопрос: как возможно продолжение существования мира после уничтожения какой-нибудь единичной воли; ведь воля едина и неделима, как же возможно, чтобы с прекращением моего единого сознания (оно субъект всего мира-представления), не прекратился тотчас же и мир? Ш. уклонился от ответа на этот вопрос, ссылаясь на его трансцендентность, но то противоречие, в которое он здесь впадает, вытекает уже из сделанного ранее допущения множественности потенций, идей в единой воле. Это противоречие проникает и в конечный пункт его системы — в учение о Нирване — небытии воли, отрекшейся от жизни. Это небытие не есть голое отрицание бытия, как у Майнлендера, ученика Ш., жаждавшего "абсолютной смерти", это — какое-то дивное "claire-obscure" между бытием и небытием, что-то вроде блаженного покоя, описываемого Лермонтовым в "Выхожу один я на дорогу" ("Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть..."). Возвратившаяся в свое лоно воля — это "царство благодати". В нем, сверх того, Ш. считает не невозможным сохранить и тень индивидуальной воли, какой-то суррогат бессмертия не сознания индивидуума, но его потенции, его умопостигаемого характера, как некоторого оттенка в единой воле. Отсюда видно, что введение единой воли, как вещи в себе, с логической необходимостью порождает в системе Ш. цепь противоречий, ее последним звеном является проблема индивидуализации единой воли во множественности эмпирических сознаний. Струя иррационализма пробегает по всем отделам философии Ш. от метафизики до философии религии. В этом смысле весьма характерно его заявление, что ему симпатичнее в религии "супернатуралисты", чем "рационалисты" — эти "честные люди", но "плоские ребята" (см. Фолькельт).
Значение философии Ш. Оно заключается не в том влиянии, которое Ш. оказал на ближайших учеников и последователей своего учения, как Фрауэнштедт (см.), Дейссен, Майнлендер, Бильгарц и др. Эти ученики были лишь полезными комментаторами учения своего учителя. Огромное значение философии Ш. заключается в ее влиянии на общий ход философской мысли, на образование новых систем и направлений. Новокантианство в известной степени обязано своим успехом философии Ш.: Либман в "Zur Analysis der Wirklichkeit" находится под влиянием Канта в шопенгауэровском освещении (особенно в вопросе об отношении интуиции к понятию). Гельмгольц также является кантианцем в духе Ш. (учение о врожденности закона причинности, теория зрения), А. Ланге, подобно Ш., сочетает в не примиренной форме материализм и идеализм. Из слияния шопенгауэровских идей с другими мыслями зародились новые системы; так, гегельянство, скомбинированное с шопенгауэровским учением и другими элементами, породило "Философию бессознательного" Гартмана; дарвинизм и шопенгауэровские идеи вошли в состав философии Ницше; учение о "ценности жизни" Дюринга выросло по контрасту из шопенгауэровского пессимизма. Косвенным образом навеяны шопенгауэровским учением о наследственности исследования по этому вопросу Рибо, учение Ломброзо о "прирожденном преступнике" и сенсационный памфлет о "вырождении" Нордау. Влияние Ш. на Вл. Соловьева (мораль в "Критике отвлеченных начал") и Льва Толстого также несомненно.
Библиография. 1) Сочинения Ш.: полные собрания сочинений: Фрауэнштедта (1873—74, в 6 тт.), Гризебаха (в "Universalbibliothek", Лейпциг, в 6 тт.), более точное Warschauer'a в 6 тт. (1891), затем штутгартское издание в 12 тт. с вводной статьей Штейнера. На русском языке важнейшие переводы: собрание сочинений Ш. в переводе Айхенвальда, печать еще не закончена. "Мир как воля и представление", т. I, в переводе Фета (1892); т. II, в переводе Соколова (1892). "Критика Кантовой философии", в переводе Черниговца (1897, из приложений к "Мир как воля и представление"). Диссертация "О четверичном корне закона достаточного основания" и "О воле в природе" в одной книге (1892), перевод Фета. "Две основные проблемы этики" (свобода воли и основы морали, 1896), в переводе Черниговца. "Афоризмы и максимы" (из "Parerga und Paralipomena", 2 ч., 1891—92), в переводе Черниговца. "Эристика" (1893), в переводе Цертелева. 2) Сочинения о Ш.: "Schopenhaueriana" так обширна, что я отсылаю читателя к подробным библиографическим указаниям у Laban'a, "Schop.-Literatur" (1886) и в русском переводе Ибервега-Гейнце, "История новой философии", где, сверх того, переводчиком даны подробнейшие библиографические указания по русской шопенгауэровской литературе. Ограничиваюсь упоминанием некоторых особенно важных трудов: труды Фрауэнштедта (см.), в том числе "Schopenhauer-Lexicon", биографические очерки и воспоминания Гвиннера, Линднера и Гризебаха; общие характеристики философии Ш. в курсе истории новой философии Виндельбанда и в "Истории метафизики" Гартмана. Chevalier, "Die Philosophie Arth. Sch. in ihren Uebereinstimmung und Differenz-Puncten mit d. Kantischen Philosophie" (1870); Crämer, "Arth. S.'s Lehre von der Schuld in ethischer Beziehung" (1895); Günther, "Ueber Sch. Kritik der Kantischen Philosophie" (1872); Ernst Lehmann, "Die verschiedenartigen Elemente der Sch. Willenslehre" (1889); Rudolf Lehmann, "Schopenhauer und die Entwickelung der Monistischen Weltanschauung" (1892); его же, "Schopenhauer" (1894); Venetianer, "Sch. als Scholastiker"; Nietzsche, "Unzeitgemässe Betrachtungen"; Hertslet, "Schopenhauer-Register" (1891); Caldwell, статья в "Mind'e" о Ш. критике Канта (1891, 10); Wallace, "Schopenhauer" (1891); Renouvier, "Sch. et la metaphys. du pessimisme" в "Année philosophique" (1893); Ed. v. Mayer, "Sch. Aesthetik"; две монографии психиатров о Ш. Зейдлица и Мёбиуса и множество других. По-русски: Куно Фишер, том истории философии, посвященный Ш., в переводе Преображенского (1894—96). Это — едва ли не лучший труд о философии Ш. Фолькельт, "Артур Ш., его личность и учение", перевод Фитермана (1902, из "Библиотеки философов", издаваемой журналом "Образование") — весьма ценная работа. Д. Н. Цертелев, "Философия Ш. Ч. I. Теория познания и метафизика" (1880); Каро, "Пессимизм в XIX веке: Леопарди, Ш., Гартман"; "Сборник статей, изданный Московским психологическим обществом в память 100-летия рождения Ш." (статьи В. И. Штейна [биография Ш.], Н. Я. Грота о значении философии Ш., Л. М. Лопатина о нравственной философии Ш., В. И. Преображенского о теории познания Ш., "Заметка о моей жизни" Ш. и библиографический указатель по Лабану); Рибо, "Философия Ш." (1898); В. Штейн, "Биография Ш." (до 1831 г.; 1887); С. Грузенберг, "Нравственная философия Ш." (1902).
И. Лапшин.